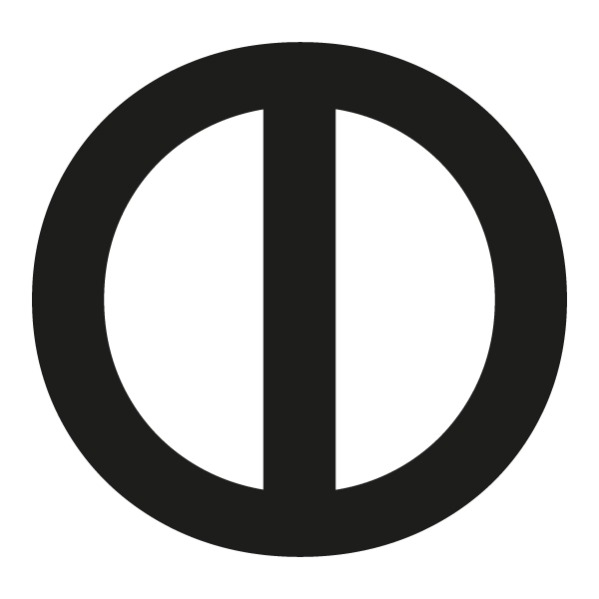Диагностика и технологии. Екатерина Захарова о прошлом и будущем орфанных заболеваний
По данным экспертного совета по редким заболеваниям при комитете Госдумы по охране здоровья, в 2020 году в программе помощи людям с редкими жизнеугрожающими заболеваниями насчитывалось около 15 тыс. человек, а в программе 14 ВЗН — больше 21 тыс. человек.
Председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний, член экспертного совета по редким болезням комитета здравоохранения ГД РФ, зав лабораторией наследственных болезней обмена веществ и заведующая кафедрой ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им. Бочкова», доктор медицинских наук Екатерина Захарова рассказала в интервью офарме.рф о том, сколько на самом деле людей с редкими заболеваниями в России и мире, что уже изменила перинатальная диагностика, как работает «орфанная настороженность» и о военном враче, который случайно диагностировал у армейца редкий недуг.
- Диагностика – первая проблема, с которой сталкиваются больные с подозрением на орфанные заболевания. На сегодняшний день во всех странах диагностика - основное «бутылочное горлышко», через которое проходит лишь небольшая доля таких пациентов. В связи с этим как вы оцениваете истинную распространённость орфанных заболеваний в России? Отличается ли ситуация с выявляемостью в нашей стране и странах Западной Европы/ США?
- Диагностика у нас разбита на две очень важных части. Первая – это клиническая диагностика. Врач должен узнать пациента с редким заболеванием. А вторая часть – это лабораторная диагностика, потому что должны быть специальные лабораторные тесты, которые позволяют нам подтвердить этот диагноз. Могу сказать, что сейчас ситуация меняется. С точки зрения лабораторных технологий во всем мире и у нас в России произошел огромный прорыв. В руках у тех, кто занимается лабораторной диагностикой, появились методы, о которых мы даже не могли мечтать. Например, такие, как секвенирование нового поколения. Смысл в том, что мы можем за один анализ посмотреть все гены человека. Или посмотреть за один анализ какую-то группу генов. Это довольно быстро по сравнению с тем, если бы мы каждый ген проверяли последовательно. И важно что этот метод очень точный.
Другие технологии – это биохимические, например такие как тандемная масс-спектрометрия. Мы можем в одном анализе посмотреть не один метаболит, а сотни этих соединений. И это дает нам возможность, например, применять эти тесты, используя малое количество крови для обследования новорожденных. Мы имеем потенциал каждого новорожденного обследовать не на пять болезней, как сейчас обследуется у нас в стране, а примерно на 50. Это новинки в технологиях. Когда говорят, что число редких заболеваний растет и их становится все больше, то это не совсем так. Мы просто стали их больше диагностировать, появилось больше возможностей.
Что касается этапа клинической диагностики, то здесь тоже наметился положительный сдвиг. Все больше стали об этих болезнях говорить, больше проводить мероприятий, семинаров. Конечно, врачи стали лучше узнавать эту патологию. Но она была всегда, с другой стороны. Врачи любой специальности, кто действительно хочет разобраться в своем пациенте, занимаются им досконально и находят истину.
Могу привести недавний пример, который меня просто потряс. Военный врач никогда в своей жизни не сталкивался с редкими заболеваниями. К нему поступил рядовой солдат, которого только призвали в армию. На одном из первых тяжелых физических мероприятий у этого солдата резко упал уровень глюкозы в крови ( гипогликемия). Все закончилось благополучно, состояние стабилизировали. Но доктор решил разобраться, почему такое случилось. Он сделал разные обследования, отправил в специализированные лаборатории. Мы тоже подключились к этому процессу. В результате поставили диагноз, который он заподозрил еще на клиническом уровне. Он заподозрил, что это очень редкое нарушение окисления жирных кислот. Мы его подтвердили с помощью молекулярного теста. Я привожу этот пример, во-первых, потому что редкое заболевание встретилось у молодого человека, который никогда до этого не думал, что у него оно есть. И если бы этот врач не разобрался, то не известно, как сложилась бы судьба этого молодого человека. Ему нельзя служить в армии и подвергаться таким тяжелым нагрузкам. Кроме того, ему нужно соблюдать определенную диету.
Я могу привести и другие, но уже трагические примеры. Когда маленький ребенок несколько раз поступает в клинику, ему ставят гипогликемию неясного генеза. Выписывают ребенка домой и не разбираются с этим дальше. К сожалению, мы в лаборатории уже ретроспективно начинаем раскручивать историю, после смерти младенца. И тогда мы находим причину, что у него было наследственное заболевание. Хотя врачи могли еще на первом этапе задуматься, почему у него гипогликемия? С чем это может быть связано? Исключить все возможные варианты, отправить на исследование на редкие болезни и спасти ему жизнь.
Уже сам термин «орфанная настороженность» входит в обиход, хотя он появился относительно недавно. Ты не можешь знать все редкие болезни, безусловно. Но важно знать некий маршрут, алгоритм, как этого пациента обследовать. Мне кажется, в первую очередь нужно, чтобы врачи знали те болезни, для которых есть терапия.
- В мире насчитывается более 7,000 орфанных заболеваний, в то время как в перечне Минздрава на 2021 год – 266. Как вы думаете стоит ли ожидать существенного расширения данного перечня в нашей стране?
- Это интерпретация не совсем верная, нужно понимать как устроен этот список. В этом списке 266 – это количество строк, а не заболеваний. Туда входят группы болезней. Для очень многих заболеваний, которые относятся к редким, не существует кода МКБ-10 (международная классификация болезней 10 пересмотра). Поэтому это заболевание невозможно вынести отдельной строкой. Вся наша законодательная система в медицине так или иначе завязана на МКБ-10. Если у болезни нет этого кода, то используется код, например «анемия неуточненная» или «недифференцированная». И в эту группу может входить не одно заболевание, а сотни болезней. Никаких проблем нет с тем, чтобы какое-то заболевание включить в этот перечень. Но это не значит что к этому заболеванию будут как-то особенно относиться если оно попало в этот перечень, но если появится терапия у болезни есть шанс попасть в перечень 24 (17) редких болезней. Но честно говоря к любому заболеванию вне зависимости от редкости нужно относится , с вниманием и лечить его теми методами, которые есть.
Так что в этом списке Минздрава заболеваний гораздо больше, я думаю, что более 2 тысяч болезней. Этот список формируется на основании того, что активно подают врачи, общественные организации. Но этот перечень, наверное, скоро себя изживет, потому что появляется уже МКБ-11. Там уже будет проще, и у большинства редких заболеваний будет свой код. Но практически все МКБ туда попадет, потому что в каждом разделе МКБ есть какое-то редкое заболевание.

- Большинство орфанных заболеваний генетические и проявляются в детском возрасте. Как вы оцениваете возможности медико-генетического консультирования, пренатального и неонатального скрининга в России? Какие основные проблемы вы видите в этой области? Хватает ли специалистов, экспертных центров?
Как вы считаете, насколько развита, в настоящее время, система диагностики редких, генетически обусловленных заболеваний у нас в стране, насколько существующие программы по диагностике, финансируемые государством, выполняют свои функции?
- Раньше, еще во времена СССР, у нас была развита медико-генетическая служба. Была понятна ее структура. Она сохранилась, но, как ни странно, еще не полностью подкреплена всеми необходимыми документами для того, чтобы она функционировала. Сейчас эта служба переживает не лучшие свои времена. У нас есть регионы, где все довольно неплохо, но в некоторых регионах ее попросту уничтожили. Есть регионы, в которых нет ни одного генетика или генетическую консультацию оторвали от лаборатории, которую перенесли в перинатальный центр. Или в некоторых регионах врача-генетика прикрепили к перинатальному центру, и он не может консультировать семьи со взрослыми больными. А ведь наследственные и редкие заболевания касаются не только детей. С этим вопросом все не очень хорошо.
Но есть надежда, что сейчас, в связи с планами по расширению массового скрининга новорожденных с 2023 года, будет создаваться определенная материальная база, проходить образование врачей, комплектоваться штат специалистов в регионах. Есть надежда, что эта служба вступит в свой второй «золотой» век. Пока это все не так радужно.
- Изучение патогенеза орфанных заболеваний способствует изучению генетики человека в целом. Мы лучше понимаем значение каждого гена и его влияние на функционирование всего организма. Можете привести примеры, когда понимание влияния определенных мутаций привело к значительному прогрессу в биомедицине, появлению новых методов лечения различных заболеваний?
- Изначально, когда стали что-то узнавать про свои гены и что они делают, какие функции выполняют, какие белки синтезируются благодаря этим генам, в основном благодаря болезням. Низкий поклон и благодарность всем семьям, которыми принимали участие в исследованиях. Очень многое в биохимии человека стало известно благодаря редким заболеваниям.
Говоря о том, как понимание патогенеза приводит к открытию методов терапии, нельзя не сказать про такие заболевания, которые у всех на слуху. Это нервно-мышечные болезни, например, спинальная мышечная атрофия (СМА). Изучение того, что есть ген и псевдоген в организме человека навело ученых на мысль, что можно использовать существование такого «запасного колеса» в геноме для того, чтобы помочь пациентам с этим редким заболеванием. Было создано два препарата, и они работают так, что помогают работать этому псевдогену, чтобы синтезировался белок.
Болезнь Дюшенна – тоже редкое заболевание. Зная о том, какие мутации к ней приводят, можно, например, придумать, как можно «обмануть» мутацию и сделать так, чтобы у пациента формировался более легкий фенотип заболевания. Это то, что нам помогает напрямую. Но я могу сказать, что это помогает и при других заболеваниях. Могу привести примеры, когда начинают активно изучать какое-то редкое заболевание и начинают лучше понимать, как вообще действуют системы метаболизма у человека, и приходят к выводу, как лечить какую-то более частую патологию.
Например, такое очень редкое заболевание, у него частота меньше, чем один на 200 тысяч новорожденных, называется алкаптонурия. При этой болезни поражаются соединительная ткань , хрящи, суставы. Это происходит не сразу, а в 20-30 лет, хотя диагноз можно поставить с рождения. Все эти люди после 40 лет переносят несколько операций по замене суставов,. Когда стали внимательно изучать это редкое заболевание, то выяснилось, что стали больше понимать патогенез частого заболевния- ревматоидного артрита .
Другой очень яркий пример с болезнью Гоше. Лизосомное заболевание, при котором нарушается лизосомный фермент. У пациентов увеличиваются размеры печени и селезенки, могут быть кровотечения. Для этого заболевания разработана ферментная заместительная терапия. Оказалось интересно, что у носителей болезни Гоше более высокий риск развития болезни Паркинсона. Стали изучать, какая тут связь, ведь это такие разные болезни. Выяснилось, что их патогенез пересекается на уровне накапливаемых метаболитов при одном и при другом заболевании. И теперь продумывают делать препараты для болезни Паркинсона, зная этот механизм патогенеза- активирать фермент, который ответственен за болезнь Гоше.
Такие интересные связки получаются, когда углубленно что-то изучают. Я считаю, что редкие болезни – это очень важное направление для всей медицины, чтобы развивать науку и помогать в том числе в области социально значимых болезней.
- Представители пациентских сообществ в области орфанных заболеваний считают, что их необходимо больше привлекать к исследованиям, направленным на изучение заболеваний, разработку лекарств, разработку стандартов диагностики и лечения. Как вы к этому относитесь? Есть ли примеры такого взаимодействия в нашей стране и насколько они успешны?
- Наверняка такие примеры есть. В свое время были определенные исследования сделаны для того, чтобы появился российский препарат для той же болезни Гоше. Сейчас ведутся исследования российского препарата для мукополисахаридоза.
Но чтобы добавить «ложку дегтя», я хочу сказать, что все это организовано не совсем верно. Все-таки у наших пациентов и у врачей есть некоторая настороженность к отечественным препаратам. Я считаю, что в этом виноваты и фармфирмы, которые их производят. Должна быть проведена большая работа, чтобы возникло доверие к лекарствам, и оно поддерживалось. Например, перед выходом препарата на рынок должна быть какая-то информация про него для врачей и пациентов, какая-то публикация в достойном журнале, в которой бы приняли участие и эксперты, и врачи, и пациенты, даже если мы говорим о дженерике.
У нас есть заболевание, которое входит в перечень 24-ех, оно называется болезнь болезнь Ниманна–Пика, тип C. Долгое время был препарат западного производства, и пациенты его получали. Больше того, фармкомпания, которая производила этот препарат, активно вкладывалась в образование врачей, в поддержание системы диагностики. Я рассказала, что можно диагностировать практически все редкие болезни у нас в стране, но система этой диагностики во многом поддерживается за счет грантов, научных исследований, в которые и фармкомпании вносят свой существенный вклад. И тут приходит дженерик. Естественно, западная фирма уходит с этого рынка и для пациентов это становится шоком. Они получали один препарат, а теперь получают другой от неизвестной компании. Хотя бы была она на слуху, ведь мы знаем названия крупных российских производителей. А у этой компании я даже не могла найти сайта, какую-то информацию о ней. Нет ни одной публикации про исследования, врачей, которые бы прокомментировали этот переход. Эта компания не поддерживает ни диагностику, не образование врачей, а просто продает свой дженерик. Никто не ведет учет этих пациентов и не исследует, что с ними произошло после перехода на этот препарат. Это интересно только самим пациентам, которые тоже ничего с этим сделать не могут.
Я абсолютно поддерживаю ситуацию с производством отечественных лекарственных препаратов. Считаю, что надо вкладывать средства в научные исследования, чтобы мы получали свои собственные оригинальные препараты. Но та часть рынка, которую я наблюдаю, пока выглядит не очень достойно. Прежде всего, в части информационного сопровождения.
- Примерно с середины 80 х годов 20 века начало свое интенсивное развитие биотехнологическое направление в разработке лекарственных препаратов, появляются новые прорывные методы лечения орфанных, онкологических, иммунологических заболеваний, лекарственная терапия становится все более персонализированной, как вы думаете какие изменения ждут нас в ближайшие 10 лет.
- Оно, фактически, к этому приблизилось. Сейчас мы переходим на другой уровень принятия решений, в том числе в отношении редких заболеваний, и это неизбежно. Фармкомпаниям очень понравилась тема орфанных заболеваний, она активно развивается. Сейчас нет, наверное, ни одной крупной фармкомпании, в которой не было бы линейки препаратов именно в области орфанных болезней. Эти препараты дорогие, и этих препаратов становится все больше.
Второй прорыв, кроме диагностики, случился в области технологий. Понятно, как сделать лекарство, как искать малые молекулы, как для многих заболеваний делать геннотерапевтические препараты. Было определенное затишье, фактически 10 лет в области генотерапии. Сейчас оно прошло, и эти препараты уже производят для многих очень редких болезней. И таких разработок очень много. Дальше встает вопрос, как мы будем принимать решение. Потому что не совсем правильно, чтобы 99% всего лекарственного обеспечения тратилось только на пациентов с редкими заболеваниями. Нужно рассмотреть вопрос о других источниках финансирования, рассмотреть момент сотрудничества с компаниями. Сейчас, если компания уверена в своем препарате, она должна то что называется «разделять риски». Если препарат один и стоит огромных средств и других препаратов не нужно, тогда мы можем доказать, что это действительно выгодно и правильно со всех точек зрения. Но если после «укола» потребуется применение других не менее дорогостоящих препаратов или повторный введение препарата, то тогда фармкомпания должна за это отвечать. Либо они должны оплачивать все последующее лечение, если оно понадобится, либо снижать изначальную стоимость на свои препараты. Может быть рассмотрен вариант и отсроченного платежа, то есть оплата за препарат по результату. Пациент должен начать ходить через месяц? Он пошел? Замечательно, мы оплачиваем это лечение. Ожидания не оправдались. Оплаты нет.
Приоритеты с точки зрения медицины выстроить очень сложно. Как можно выбрать ребенка с одним или с другим заболеванием? Чтобы ни рассказывали, что по каким-то критериям эти заболевания ранжировать и присваивать какие-то баллы, для врача, который занимается этой болезнью, для родителей этого ребенка это все не аргумент. Если есть болезнь и есть лекарства, то человек должен его получать. Теперь задача очень сложная перед организаторами здравоохранения, перед регуляторами в том, чтобы это сделать возможным. Здесь уже совершенно другие игроки должны быть на этом поле. Ну и развитие конкуренции. Хорошо, чтобы отечественный рынок развивался, потому что это конкуренция. Но другое дело, чтобы конкуренция была не в том плане, что если есть отечественный препарат, то остальные игроки даже не выходят на аукцион. Нужно чтобы они все вместе достойно «сражались» на этом рынке.
Мы живем в очень интересное время- время новых возможностей и абсолютно новой медицины. В которой пациенты даже с самыми ультраредкими болезнями имеют шанс на будущее.